Харальд Валах
Нарциссизм – тень трансперсональной психологии
Статья опубликована в журнале «Transpersonal Psychology Review» в сентябре 2008 года
Перевод выполнен Ириной Танетовой
Перевод выполнен Ириной Танетовой
Озвучку этой статьи и многие другие материалы по трансперсональной психологии слушайте, читайте и смотрите в Телеграм-канале "Трансперсональный Дайджест" https://t.me/tpdigest
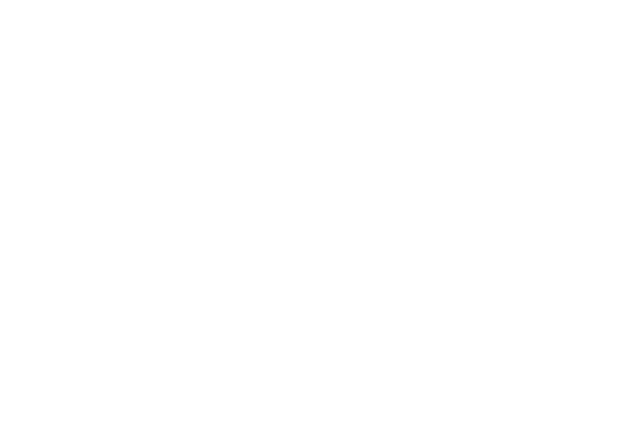
Фото: Vivian Ainsalu – Narcissus
Аннотация:
Нарциссизм существует в двух вариантах: инфляция [раздувание] Эго и комплекс Моисея. Если первый вариант проявляется в патологической грандиозности, то второй характеризуется чрезмерным обесцениванием себя и отсутствием самоуважения. В групповых контекстах оба эти типа проявляются в симбиозе харизматического лидера и преклоняющихся перед ним последователей. И то, и другое - тонкие формы духовных защитных механизмов от истинной духовной задачи поиска и трансцендирования своего "истинного" «Я». В силу специфики своей тематики трансперсональная психология особенно часто привлекает людей с нарциссическими проблемами, и это необходимо осознавать. Отметим некоторые практические последствия этого.
Нарциссизм существует в двух вариантах: инфляция [раздувание] Эго и комплекс Моисея. Если первый вариант проявляется в патологической грандиозности, то второй характеризуется чрезмерным обесцениванием себя и отсутствием самоуважения. В групповых контекстах оба эти типа проявляются в симбиозе харизматического лидера и преклоняющихся перед ним последователей. И то, и другое - тонкие формы духовных защитных механизмов от истинной духовной задачи поиска и трансцендирования своего "истинного" «Я». В силу специфики своей тематики трансперсональная психология особенно часто привлекает людей с нарциссическими проблемами, и это необходимо осознавать. Отметим некоторые практические последствия этого.
Введение
К.Г. Юнг указал, что инфляция Эго является одной из главных опасностей при контакте с тем, что он называл "трансперсональным" содержанием или "коллективным бессознательным" (Юнг, 1984). Под этим он подразумевал, что личности с сильным духовным опытом могут настолько отождествиться с ним, что потеряют из виду свою ограниченность и конечность, свои личные проблемы и непрерывную потребность в личностном развитии. Это развитие обычно подразумевает, что духовный опыт должен реализовываться на многих этапах, которые могут быть обременительными, трудными или скучными. В противном случае существует опасность, что ложное, хрупкое и требовательное эго будет использовать этот опыт для компенсации собственных недостатков. Это может уберечь корабль от затопления, но также помешает ему отплыть. В данной статье рассматривается главная опасность, возникающая на духовном пути, а именно инфляция Эго.
В Торе, Второй книге Моисея (Исход), рассказывается о том, как Яхве призвал Моисея. Моисей пасет стада своего тестя в пустыне, в то время как его народ страдает в египетском рабстве, когда ему является Яхве и призывает его освободить свой народ, израильтян, из рабства, пойти и противостоять фараону, чтобы тот позволил ему вывести израильтян из Египта. Но, во-первых, Моисей не считает за честь быть призванным Богом. Скорее, он считает эту затею слишком претенциозной и отказывается (этот факт часто упускается из виду!). Он утверждает, что не умеет красиво говорить и что израильтяне, не говоря уже о фараоне, могут его не послушать. Но Бог снова и снова обращается к нему, пока Моисей, нехотя, не соглашается. Однако ему удается добиться от Бога уступки: говорить будет его брат Аарон.
В этой истории дано вполне конкретное определение второй опасности духовного пути: это то, что я хотел бы назвать комплексом Моисея, - соблазн отказаться от четко осознаваемого призвания и отказ жить в соответствии с ним, ссылаясь на свои слабости, недостаток подготовки или достижений, либо из чистого страха или лени. Очень коварной формой комплекса Моисея является ложное смирение или отказ признать свое внутреннее достоинство и силу. Инфляция Эго и комплекс Моисея - это два полюса, между которыми петляет духовный путь. В этой статье я хочу показать, что они являются двумя сторонами одной медали - нарциссизма. И поскольку эти два искушения так глубоко связаны с духовным путем, нарциссизм - это тень трансперсональной психологии. Чем больше мы стоим на свету - а кто бы этого не хотел, - тем меньше мы видим то, что находится в тени. И только тот, кто сам является светом, может с полным правом утверждать, что у него нет тени. Но кто имеет на это право?
В Торе, Второй книге Моисея (Исход), рассказывается о том, как Яхве призвал Моисея. Моисей пасет стада своего тестя в пустыне, в то время как его народ страдает в египетском рабстве, когда ему является Яхве и призывает его освободить свой народ, израильтян, из рабства, пойти и противостоять фараону, чтобы тот позволил ему вывести израильтян из Египта. Но, во-первых, Моисей не считает за честь быть призванным Богом. Скорее, он считает эту затею слишком претенциозной и отказывается (этот факт часто упускается из виду!). Он утверждает, что не умеет красиво говорить и что израильтяне, не говоря уже о фараоне, могут его не послушать. Но Бог снова и снова обращается к нему, пока Моисей, нехотя, не соглашается. Однако ему удается добиться от Бога уступки: говорить будет его брат Аарон.
В этой истории дано вполне конкретное определение второй опасности духовного пути: это то, что я хотел бы назвать комплексом Моисея, - соблазн отказаться от четко осознаваемого призвания и отказ жить в соответствии с ним, ссылаясь на свои слабости, недостаток подготовки или достижений, либо из чистого страха или лени. Очень коварной формой комплекса Моисея является ложное смирение или отказ признать свое внутреннее достоинство и силу. Инфляция Эго и комплекс Моисея - это два полюса, между которыми петляет духовный путь. В этой статье я хочу показать, что они являются двумя сторонами одной медали - нарциссизма. И поскольку эти два искушения так глубоко связаны с духовным путем, нарциссизм - это тень трансперсональной психологии. Чем больше мы стоим на свету - а кто бы этого не хотел, - тем меньше мы видим то, что находится в тени. И только тот, кто сам является светом, может с полным правом утверждать, что у него нет тени. Но кто имеет на это право?
Нарциссизм
Нарциссизм - это, в буквальном смысле, любовь к себе, или, говоря более техническим языком, либидинальная привязанность к себе. Проще говоря, под нарциссизмом мы понимаем здоровое и нормальное чувство гордости, компетентности и благополучия психологически здоровых людей, когда они думают о себе или своих характеристиках, планах или поведении, которые являются частью их "Я" (Mertens, 1993). Старая фрейдистская, психоаналитическая традиция считала нарциссизм одной из примитивных сторон человеческой психики. Однако новые психоаналитические подходы корректируют этот односторонний взгляд. Благодаря наблюдениям Хайнца Кохута и Отто Ф. Кернберга (Kernberg, 1978, 1992b, 1993; Kohut, 1971, 1977, 1978) появилось новое понимание нарциссизма, включающее здоровое чувство благополучия или удовольствия, направленное на самого себя, т.е. сбалансированное чувство собственной ценности и доверия к себе, которое является частью и необходимым условием здоровой жизни.
Как известно, первоначальное учение Фрейда еще на ранних этапах подверглось критике и предложениям по его доработке. Одни, например Хайнц Хартманн (Hartmann, 1972), указывали на важность Эго, другие, например Мелани Кляйн и позднее Отто Ф. Кернберг, - на важность объектных отношений. В то время как эго-теоретики, такие как Хартманн, делали акцент на Эго и начинали дискуссию вокруг психоаналитически обоснованного понимания «Я», теоретики объектных отношений акцентировали то, как опыт ранних отношений в младенчестве и детстве отражается на том, как человек видит, переживает и относится не только к другим, но и к самому себе. Прежде всего, так сделал Хайнц Кохут, перенеся дискуссию в рамки традиционного психоаналитического теоретизирования, сосредоточив внимание на взаимодействии между личностью и ее окружением.
Как известно, первоначальное учение Фрейда еще на ранних этапах подверглось критике и предложениям по его доработке. Одни, например Хайнц Хартманн (Hartmann, 1972), указывали на важность Эго, другие, например Мелани Кляйн и позднее Отто Ф. Кернберг, - на важность объектных отношений. В то время как эго-теоретики, такие как Хартманн, делали акцент на Эго и начинали дискуссию вокруг психоаналитически обоснованного понимания «Я», теоретики объектных отношений акцентировали то, как опыт ранних отношений в младенчестве и детстве отражается на том, как человек видит, переживает и относится не только к другим, но и к самому себе. Прежде всего, так сделал Хайнц Кохут, перенеся дискуссию в рамки традиционного психоаналитического теоретизирования, сосредоточив внимание на взаимодействии между личностью и ее окружением.
Харальд Валах (Harald Walach) - немецкий парапсихолог и сторонник альтернативной медицины.
Валах родился в 1957 году. В 1984 г. он получил степень по психологии во Фрайбургском университете, в 1991 г. - докторскую степень по клинической психологии в Базельском университете, в 1995 г. - докторскую степень по истории науки в Венском университете. В 1998 г. получил хабилитацию* по психологии во Фрайбургском университете. Некоторое время работал в Институте Самуэли до его закрытия в 2017 г.
Также некоторое время работал в Нортгемптонском университете, затем директором Института транскультурных исследований здоровья в Europa Universität Viadrina, где руководил курсом подготовки врачей по комплементарной медицине и культурологии.
Валах родился в 1957 году. В 1984 г. он получил степень по психологии во Фрайбургском университете, в 1991 г. - докторскую степень по клинической психологии в Базельском университете, в 1995 г. - докторскую степень по истории науки в Венском университете. В 1998 г. получил хабилитацию* по психологии во Фрайбургском университете. Некоторое время работал в Институте Самуэли до его закрытия в 2017 г.
Также некоторое время работал в Нортгемптонском университете, затем директором Института транскультурных исследований здоровья в Europa Universität Viadrina, где руководил курсом подготовки врачей по комплементарной медицине и культурологии.
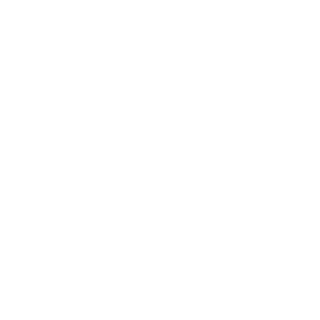
Харальд Валах
Доктор истории и психологии
Основной тезис Кохута прост. Он постулирует, что подобно тому, как существует фундаментальная потребность в пище, крове, тепле, защите, а затем и в сексуальных связях, так и существует столь же фундаментальная потребность в утверждении, зеркальном отражении и уважении собственного "Я". Термин "нарциссизм" относится к этой потребности. Кохут указывает на то, что, будучи взрослыми, мы все еще не в состоянии самостоятельно удовлетворить эту потребность и нуждаемся в социальном окружении. В младенчестве и детстве мы зависим от родителей. Став взрослыми, мы можем самостоятельно удовлетворять большинство необходимых потребностей. Но мы по-прежнему зависим от других людей, которые оказывают нам поддержку, подтверждают нашу ценность и отражают наше представление о себе. Таким образом, мы остаемся нарциссически зависимыми до конца жизни, даже если в результате достаточно благоприятной истории развития у нас сформировалось сильное чувство самости и самоценности. Основной метафорой, отражающей этот факт, является "зеркало". Точно так же, как нам нужно зеркало, чтобы увидеть, как мы выглядим, нам нужны другие люди, чтобы понять, кто мы такие, и убедиться, что с нами все в порядке, и что мы любимы такими, какие мы есть. Кохут называет этот базовый опыт, передающий младенцу осознание своей самоценности, "искрой в глазах матери". В идеале любимый ребенок настолько хорошо отражает своих родителей, что любовь и тепло, которые он испытывает, интроецируются и становятся частью его "Я". Говоря психологическим языком, самость формируется из этих переживаний, испытанных с другими людьми, которые на психоаналитическом жаргоне называются Я-объектами. Если этот процесс интроекции позитивного отношения проходит успешно, то возникает устойчивое и благостное ощущение себя и своей значимости. Если же этот процесс нарушается, то в личности появляются более или менее крупные нарциссические "дыры", представляющие собой отсутствие адекватного зеркального отражения. В зависимости от того, насколько сильны эти нарциссические угрозы, и в какой период истории развития личности они появились, возникают психологические дисфункции различной степени тяжести и феноменологии. В то время как массивные патологические нарциссические расстройства относительно очевидны - либо из-за их угрозы окружению, либо из-за страданий индивида - существует также множество "тихих" нарциссических нарушений, которые не выглядят как девиантные, чаще всего потому, что такие люди стремятся угодить другим, они готовы к сотрудничеству, старательны и активны, и, таким образом, имеют личность того типа, который в нашей западной культуре является наиболее распространенным. Особенно если нарциссически слабые личности обладают сильными, интеллектуальными, артистическими или другими способностями, им часто удается использовать их для компенсации своих первоначальных нарциссических недостатков, добиваясь успеха, вознаграждения и признания в своей профессиональной сфере. Впоследствии это приводит к достижениям выше среднего уровня в профессиональной жизни. Поскольку таким людям приходится полагаться на свое социальное окружение, которое оказывает им необходимую нарциссическую поддержку, они часто развивают в себе отличные социальные навыки и приветливость, с помощью которых могут побуждать окружающих к благожелательному отношению к ним. Тем не менее нарциссические раны все равно могут болеть незаметно, особенно если окружение не оказывает необходимой поддержки.
Характерной чертой нарциссических проблем является наличие чувства заниженной самооценки, а также фантазий о величии и значимости. Если все складывается удачно, такие люди находят ниши и способы получения необходимой им нарциссической поддержки. Но если положительная обратная связь слишком слаба, прерывается или отсутствует, или нарциссические потребности индивида слишком сильны, чтобы их можно было удовлетворить в нормальной обстановке, наступают нарциссические кризисы, о которых психика сигнализирует ощущением пустоты, отсутствием драйва и удовольствия, а возможно, и суицидальными фантазиями. Бред величия является дополнительной гранью и представляет собой попытку преодолеть основную тенденцию низкой самооценки. Эти фантазии часто содержат образы собственной значимости, которые не разделяются другими. Вследствие этого часто возникают горестные и депрессивные аффекты или параноидальные мысли. Несмотря на сходство основных процессов, феноменология расстройства может быть различной. Так, параноидальное поведение и суицид под маской депрессии могут иметь одну и ту же психологическую основу - нарциссический дефицит. Когда нарциссические угрозы встречаются с относительно стабильной и консолидированной личностью на более поздних этапах развития или приходят только в виде единичных травмирующих событий, есть шанс, что личность в целом не разрушится, но периоды внутренней пустоты и отсутствия цели, одиночества и чувства отдаленности от других могут все же наступить. Если же нарциссические угрозы носят постоянный характер и возникают с самого раннего возраста, то личность может оказаться в ловушке тяжелого расстройства личности, такого как параноидное, антисоциальное или тяжелое пограничное расстройство личности.
Характерной чертой нарциссических проблем является наличие чувства заниженной самооценки, а также фантазий о величии и значимости. Если все складывается удачно, такие люди находят ниши и способы получения необходимой им нарциссической поддержки. Но если положительная обратная связь слишком слаба, прерывается или отсутствует, или нарциссические потребности индивида слишком сильны, чтобы их можно было удовлетворить в нормальной обстановке, наступают нарциссические кризисы, о которых психика сигнализирует ощущением пустоты, отсутствием драйва и удовольствия, а возможно, и суицидальными фантазиями. Бред величия является дополнительной гранью и представляет собой попытку преодолеть основную тенденцию низкой самооценки. Эти фантазии часто содержат образы собственной значимости, которые не разделяются другими. Вследствие этого часто возникают горестные и депрессивные аффекты или параноидальные мысли. Несмотря на сходство основных процессов, феноменология расстройства может быть различной. Так, параноидальное поведение и суицид под маской депрессии могут иметь одну и ту же психологическую основу - нарциссический дефицит. Когда нарциссические угрозы встречаются с относительно стабильной и консолидированной личностью на более поздних этапах развития или приходят только в виде единичных травмирующих событий, есть шанс, что личность в целом не разрушится, но периоды внутренней пустоты и отсутствия цели, одиночества и чувства отдаленности от других могут все же наступить. Если же нарциссические угрозы носят постоянный характер и возникают с самого раннего возраста, то личность может оказаться в ловушке тяжелого расстройства личности, такого как параноидное, антисоциальное или тяжелое пограничное расстройство личности.
Важность фрустрации
Я не хочу создавать впечатление, что все мировые проблемы могут быть решены, если только дети будут иметь возможность добиваться своего. Это широко распространенное убеждение, проистекающее из обывательской позиции и фундаментального непонимания психологии "Я", безусловно, ошибочно. Такой мир не только невозможен, но и опасен. Кохут неоднократно подчеркивал, что именно повседневные фрустрации, переживание границ и мини-травмы повседневной жизни позволяют детям отпустить свой огромный, врожденный и вполне естественный нарциссизм. Эти фрустрации помогают детям интроецировать, а затем и взять на себя обязанности, возлагаемые на них жизнью в целом и воспитателями в частности, снизить свои требования до реалистичного уровня, обозначить пределы и установить границы, найти реалистичные пути для осуществления больших планов, расставить приоритеты для различных и часто противоречивых потребностей и желаний. Дети могут возложить на себя эти функции, если они испытывают фрустрацию, и если их импульсы конструктивно сдерживаются. Фрустрирующий опыт отбрасывает детей (да и взрослых тоже!) обратно к самим себе, заставляет их перестраивать свою систему и искать новые цели. Только так мы можем понять, что наши собственные потребности и их удовлетворение не являются единственно важным делом на земле. Тем самым мы можем развить реалистичное чувство себя: что мы и ценны, и уникальны, и в то же время не единственные существа на земле. Результатом такого оптимального развития, баланса между теплой поддержкой и нарциссическим отзеркаливанием и переживанием границ и пределов, является здоровый нарциссизм, который знает и о собственной значимости, и о своем соответствующем месте в мире. Когда детская грандиозность отражается в зеркале и подкрепляется без разочарований, вполне вероятно, что у ребенка развивается неуместное чувство собственной важности, не имеющее под собой никакой реальной основы. Примером тому служат типичные избалованные выходцы из высшего общества, которые постоянно издеваются над другими, заставляя их делать все по-своему. Если не давать детям возможности испытывать разочарования, которые рано или поздно принесет им мир, то они не смогут выработать механизмы саморегуляции. Из таких людей, скорее всего, вырастут яркие нарциссы, которые настолько высоко ценят свое "Я" и свое величие, что не способны представить себе, что другие люди могут обладать не менее высокими достоинствами, большими талантами и такими же правами. Этот вариант эгоистического нарцисса, превозносящего значимость собственной личности во всем, что он делает, и является одноименным синдромом. Ведь в оригинальном мифе Нарцисс - это прекрасный юноша, который, глядя в пруд, влюбляется в свое зеркальное отражение и превращается в цветок. Однако не стоит забывать о тихой, скрытой форме нарциссизма, проистекающей из недостатка любви и самоуважения, только потому, что более явную форму так легко заметить.
Этот вывод, сделанный на основе психоаналитических реконструкций, хорошо согласуется с эмпирическими исследованиями, опирающимися на теорию личности: Винку (Wink, 1991) удалось показать, что при факторном анализе общие шкалы, измеряющие нарциссизм, действительно демонстрируют двухфакторную структуру, состоящую из двух несвязанных факторов: ранимость-чувствительность и грандиозность-эксгибиционизм. Обе формы нарциссизма были отрицательно связаны с показателями психологического благополучия, но ранимая форма в большей степени, чем грандиозная, и, что более важно, грандиозная форма, по-видимому, хорошо коррелирует с показателями социального самообладания и уверенности в себе, тогда как ранимая форма отрицательно связана с этими показателями, демонстрируя две, совершенно противоположные, стороны нарциссизма. Кроме того, эмпирически была установлена психоаналитическая связь между нарциссизмом и скукой (Wink & Donahue, 1997). И самое главное - что только здоровый, автономный нарциссизм связан с духовностью (Wink, Dillon, & Fay, 2005).
Для развития здорового нарциссизма необходимо и то, и другое - любящее зеркальное отражение себя и ограничение сверхэкспансивных импульсов. В версии терапии Кохута именно эта смесь - зеркальное отражение, поддержка и подкрепление самораскрытия клиента и его адекватная фрустрация - помогает дать поддержку и структуру нарциссически депривированному человеку, чтобы позволить вырасти реалистичному и позитивному чувству собственного "Я" (Kohut, 1987). Эту основную идею я развил в своей четырехмерной модели психотерапии, которая включает в себя любящий и структурирующий компоненты, в сочетании с временным и образовательным компонентами (Walach, 2002).
Этот вывод, сделанный на основе психоаналитических реконструкций, хорошо согласуется с эмпирическими исследованиями, опирающимися на теорию личности: Винку (Wink, 1991) удалось показать, что при факторном анализе общие шкалы, измеряющие нарциссизм, действительно демонстрируют двухфакторную структуру, состоящую из двух несвязанных факторов: ранимость-чувствительность и грандиозность-эксгибиционизм. Обе формы нарциссизма были отрицательно связаны с показателями психологического благополучия, но ранимая форма в большей степени, чем грандиозная, и, что более важно, грандиозная форма, по-видимому, хорошо коррелирует с показателями социального самообладания и уверенности в себе, тогда как ранимая форма отрицательно связана с этими показателями, демонстрируя две, совершенно противоположные, стороны нарциссизма. Кроме того, эмпирически была установлена психоаналитическая связь между нарциссизмом и скукой (Wink & Donahue, 1997). И самое главное - что только здоровый, автономный нарциссизм связан с духовностью (Wink, Dillon, & Fay, 2005).
Для развития здорового нарциссизма необходимо и то, и другое - любящее зеркальное отражение себя и ограничение сверхэкспансивных импульсов. В версии терапии Кохута именно эта смесь - зеркальное отражение, поддержка и подкрепление самораскрытия клиента и его адекватная фрустрация - помогает дать поддержку и структуру нарциссически депривированному человеку, чтобы позволить вырасти реалистичному и позитивному чувству собственного "Я" (Kohut, 1987). Эту основную идею я развил в своей четырехмерной модели психотерапии, которая включает в себя любящий и структурирующий компоненты, в сочетании с временным и образовательным компонентами (Walach, 2002).
Нарциссизм как культурная и социальная проблема западных обществ
Швейцарский психоаналитик Алиса Миллер (Miller, 1979, 1981a, 1981b, 1988) в своих эмпатичных трудах, посвященных проблемам нарциссизма, показала, что и массовая фрустрация, и отсутствие фрустрации, и общая избалованность детей имеют свои корни в культурных и социальных нормах. Дело не только в отдельных родителях, которые, не имея достаточных знаний или рекомендаций, или в силу собственного нарциссизма, допускают случайные ошибки в воспитании своих детей. Скорее, общая культурная ситуация способствует усилению нарциссических проблем. В своем исследовании фашистской личности Адорно указывал, что фашизм - это не частная, а коллективная социальная проблема, которая вырастает из коллективной передачи культурных ценностей, а также из условий воспитания и обучения детей (Adorno, 1950).
Потребуется целое исследование, чтобы понять, как условия труда, возникшие в период становления индустриализма и капитализма, могли настолько разрушить и подавить существующие традиционные социальные и семейные структуры поддержки и воспитания, что нормой стали чрезмерно фрустрированные, нарциссически слабые дети, из которых фашистские режимы в Европе впоследствии черпали своих последователей. Кроме всего прочего, Третий рейх был коллективной попыткой реализовать недостаток самоуважения своих последователей в коллективном чувстве грандиозности. А условия, в которых оказалось поколение после Второй мировой войны, не позволили сформировать у детей здоровое чувство собственного достоинства. С другой стороны, поколения, следующие сразу за послевоенным, похоже, впали в другую крайность, по крайней мере, в Европе. Родители смогли компенсировать лишения, выпавшие на их долю, дав своим детям то, чего они жаждали, по крайней мере, в материальном плане. Они были достаточно обеспечены, чтобы выполнить обещания, данные индустриальным обществом, и пытались купить счастье для себя и своих детей, избегая, а не переживая, фрустрацию. Так возникли нетерпимость к фрустрирующим переживаниям и нарциссизм, проистекающий скорее из величия, чем из лишений. Похоже, что в последние несколько поколений, по крайней мере в западных культурах, сложилась такая социальная ситуация, которая скорее способствовала, чем препятствовала, развитию нарциссических проблем. Мы видим непрекращающуюся критику гедонизма конца 1960-х годов и эгоцентричной духовности нью-эйджизма (Heelas, 1996; Wink, Ciciolla, Dillon, & Tracy, 2007; Wink, Dillon, & Fay, 2005), и вполне возможно, что эта проблема является проблемой всей нашей культуры, а не только некоторых индивидов или аберрантных траекторий развития (Lasch, 1991). Есть вероятность, что психологические проблемы во многих случаях на самом деле являются проблемами, связанными с неправильным развитием нарциссизма. Это следует понимать не как строго эпидемиологическое утверждение, касающееся жестких категорий нарциссических расстройств личности, а в очень широком смысле - как проблемы в развитии здорового нарциссизма.
Это необходимо учитывать при изучении духовных практик восточных культур, которые предполагают и зачастую в целом базируются на совершенно иных психологических, социальных и культурных условиях. Эти восточные культуры и духовные практики предполагают наличие стабильного, нарциссически бескомпромиссного "Я" в качестве предпосылки для духовного пути. Проблемы нарциссизма становятся широко распространенными там, где нарциссически слабое или грандиозное "Я" вступает в контакт с духовным опытом в ходе таких практик.
Потребуется целое исследование, чтобы понять, как условия труда, возникшие в период становления индустриализма и капитализма, могли настолько разрушить и подавить существующие традиционные социальные и семейные структуры поддержки и воспитания, что нормой стали чрезмерно фрустрированные, нарциссически слабые дети, из которых фашистские режимы в Европе впоследствии черпали своих последователей. Кроме всего прочего, Третий рейх был коллективной попыткой реализовать недостаток самоуважения своих последователей в коллективном чувстве грандиозности. А условия, в которых оказалось поколение после Второй мировой войны, не позволили сформировать у детей здоровое чувство собственного достоинства. С другой стороны, поколения, следующие сразу за послевоенным, похоже, впали в другую крайность, по крайней мере, в Европе. Родители смогли компенсировать лишения, выпавшие на их долю, дав своим детям то, чего они жаждали, по крайней мере, в материальном плане. Они были достаточно обеспечены, чтобы выполнить обещания, данные индустриальным обществом, и пытались купить счастье для себя и своих детей, избегая, а не переживая, фрустрацию. Так возникли нетерпимость к фрустрирующим переживаниям и нарциссизм, проистекающий скорее из величия, чем из лишений. Похоже, что в последние несколько поколений, по крайней мере в западных культурах, сложилась такая социальная ситуация, которая скорее способствовала, чем препятствовала, развитию нарциссических проблем. Мы видим непрекращающуюся критику гедонизма конца 1960-х годов и эгоцентричной духовности нью-эйджизма (Heelas, 1996; Wink, Ciciolla, Dillon, & Tracy, 2007; Wink, Dillon, & Fay, 2005), и вполне возможно, что эта проблема является проблемой всей нашей культуры, а не только некоторых индивидов или аберрантных траекторий развития (Lasch, 1991). Есть вероятность, что психологические проблемы во многих случаях на самом деле являются проблемами, связанными с неправильным развитием нарциссизма. Это следует понимать не как строго эпидемиологическое утверждение, касающееся жестких категорий нарциссических расстройств личности, а в очень широком смысле - как проблемы в развитии здорового нарциссизма.
Это необходимо учитывать при изучении духовных практик восточных культур, которые предполагают и зачастую в целом базируются на совершенно иных психологических, социальных и культурных условиях. Эти восточные культуры и духовные практики предполагают наличие стабильного, нарциссически бескомпромиссного "Я" в качестве предпосылки для духовного пути. Проблемы нарциссизма становятся широко распространенными там, где нарциссически слабое или грандиозное "Я" вступает в контакт с духовным опытом в ходе таких практик.
Нарциссический потенциал духовных переживаний и практик
Духовные переживания и нарциссические искажения
Говоря о духовных переживаниях, я имею в виду такие переживания, которые люди намеренно ищут в процессе регулярной и обычно проводимой под руководством практики. Если такой опыт является подлинным, то он так или иначе всегда обеспечивает непосредственное переживание своей "истинной" природы или "истинного" "Я". В разных традициях существуют разные представления об этом опыте, хотя, возможно, речь идет об одном и том же базовом переживании (Enomiya-Lassalle, 1987): природа Будды, искра души, Христос внутри, великое Я ЕСМЬ и т.д. Обычно этот опыт также несет в себе перекалибровку психологического "Я" и его значимости, поскольку он дает возможность ощутить единство с другими существами, со всей реальностью или со священной, богоподобной реальностью, преодолевая границы пространства и времени (James, 1985). Потеря малого и обретение большего, расширенного "Я" или истинной самоприроды - вот, по-видимому, феноменологические константы такого опыта во все времена и в разных культурах. Кроме того, похоже, что все духовные традиции сходятся во мнении, что сам по себе такой опыт не имеет большого значения и обретает силу только в результате интенсивной практики, когда он встраивается в повседневную жизнь, а также в этическое поведение (Aitken, 1988; Daniels, 2005). Более того, тщательный анализ различных трансперсональных подходов и звучащая критика наивного перениализма показывают, что если и есть какая-то общность между религиями и трансперсональными подходами, то это их общая цель - освобождение человека от эгоцентризма (Ferrer, 2000, 2002). Таким образом, рассматриваемые всерьез религии и трансперсональная психология как практическое направление развития психологии должны определяться не конкретным содержанием, а их освободительной направленностью, позволяющей человеку вырасти за пределы своих индивидуальных ограничений и запретов, используя опыт как средство, а не как самоцель. Однако если такой опыт плохо интегрирован в личность или в повседневную жизнь, или если он встречается с хрупкой системой личности, то инфляция Эго становится реальной опасностью. В этом случае опыт становится не парусом, несущим человека вперед, а пробкой, затыкающей нарциссическую дыру. Последствия такого искажения - догматизм и эгоистическое лидерство, а то и эксплуатация отношений с другими людьми. В трансперсонально-ориентированных психологических кругах опасность эксплуатации человека человеком представляется большей, чем в других группах, поскольку предлагаемые там догматико-идеологические средства позволяют рационализировать и оправдывать такое эксплуататорское поведение. В качестве примера можно привести сексуально-эксплуататорские отношения между гуру и учителями и их учениками и последователями (Campbell, 1997).
Учителя с низкой самооценкой рискуют использовать свой, возможно, глубокий духовный опыт и собственную интерпретацию как абсолютную истину, становясь догматиками и останавливая критически настроенных учеников. Отличительной чертой нарциссически слабого человека является то, что он не способен терпеть рядом с собой сильных личностей, которые могут критиковать его и как учителя, и за его грандиозность. Инфляционная нарциссическая система сравнима с солнечной: в ней может быть только одна центральная звезда и более или менее яркие планеты, которым она дает свет. Как только кто-то приближается к этому квазигравитационному полю, он либо втягивается в него и позиционируется в какой-то точке, либо, если его собственная масса слишком велика, изгоняется. Такие системы легко обнаружить, поскольку в них есть только один неоспоримый лидер, а критика не допускается (да и, как уверяют, не требуется). Обычно, больше, чем что-либо другое, темой является интерпретация опыта ведущей фигурой.
Когда система приобретает ярко выраженный догматико-фашистский характер, добавляется еще один компонент - демонизация других. Люди делятся на тех, кто принадлежит к "нам", и "других, кто против нас". Это похоже на коллективное осуществление процессов расщепления, столь характерных для пограничных пациентов (Kernberg, 1992a; Linehan, 1993; Masterson, 1980). В новейшей истории трансперсональной психологии подобный процесс был прослежен на примере некоторых преподавателей психосинтеза первого поколения в США (Schuller, 1988). В данном случае возник инфляционный круг, начавшийся с харизматических лидеров и духовной психологической системы, называемой психосинтезом (Ассаджиоли, 1991). Эволюционируя вокруг лидеров, этот процесс перерос в демонизацию других, в создание внутреннего круга хороших людей, противостоящих плохому внешнему миру. В итоге психологическая гибель постигла тех, кто оказался слишком близко к центральной звезде. Они были либо выброшены, либо с большой болью вырвались на свободу. В конце концов, оставшаяся группа прибегла к незаконным методам: уничтожила все файлы, скрылась с оставшимися ценностями и, насколько мне известно, буквально исчезла. Возможно, в этом смысле вся система психосинтеза не имеет под собой оснований, поскольку ее основатель Роберто Ассаджиоли не сделал прозрачными свои источники. Среди инсайдеров известно, что многие его знания и практика пришли из эзотерических кругов, связанных с теософским движением Алисы Бейли. В своей автобиографии она даже упоминает его как своего ученика и соратника (Bailey, 1975), p.224ff). Некоторые из первых последователей Ассаджиоли сообщали, что он говорил, что у психосинтеза есть две стороны - открытая и скрытая, и что Ассаджиоли не хотел, чтобы публика знала, что истоки психосинтеза лежат в теософской, а возможно, и в других эзотерических традициях (Schuller, 1988). Неудивительно, что этот ореол секретности, особости и эзотеричности был привлекателен для субъектов с определенными нарциссическими потребностями и тем самым способствовал формированию и закреплению нарциссических структур личности (Aron Saltiel, личное сообщение). То же самое, вероятно, можно сказать и о многих других движениях, которые вращаются вокруг особого учения, особого опыта или и того, и другого. В этом кроется глубинная причина того, что каждая традиционная религия или духовная традиция, основанная на глубоком опыте, разработала обряды, ритуалы или практики, которые, по крайней мере, призваны очистить ее от опасности нарциссической инфляции. К этой теме мы перейдем ниже. Именно по этой причине религиозные, духовные или сектантские группы, основанные на нарциссическом сговоре между мастером и последователями, склонны вызывать страдания у тех, кто в конце концов вырывается на свободу, и этот факт теперь зафиксирован в категории DSM "Религиозно-духовная проблема" (Lukoff, Lu, & Turner, 1992).
Учителя с низкой самооценкой рискуют использовать свой, возможно, глубокий духовный опыт и собственную интерпретацию как абсолютную истину, становясь догматиками и останавливая критически настроенных учеников. Отличительной чертой нарциссически слабого человека является то, что он не способен терпеть рядом с собой сильных личностей, которые могут критиковать его и как учителя, и за его грандиозность. Инфляционная нарциссическая система сравнима с солнечной: в ней может быть только одна центральная звезда и более или менее яркие планеты, которым она дает свет. Как только кто-то приближается к этому квазигравитационному полю, он либо втягивается в него и позиционируется в какой-то точке, либо, если его собственная масса слишком велика, изгоняется. Такие системы легко обнаружить, поскольку в них есть только один неоспоримый лидер, а критика не допускается (да и, как уверяют, не требуется). Обычно, больше, чем что-либо другое, темой является интерпретация опыта ведущей фигурой.
Когда система приобретает ярко выраженный догматико-фашистский характер, добавляется еще один компонент - демонизация других. Люди делятся на тех, кто принадлежит к "нам", и "других, кто против нас". Это похоже на коллективное осуществление процессов расщепления, столь характерных для пограничных пациентов (Kernberg, 1992a; Linehan, 1993; Masterson, 1980). В новейшей истории трансперсональной психологии подобный процесс был прослежен на примере некоторых преподавателей психосинтеза первого поколения в США (Schuller, 1988). В данном случае возник инфляционный круг, начавшийся с харизматических лидеров и духовной психологической системы, называемой психосинтезом (Ассаджиоли, 1991). Эволюционируя вокруг лидеров, этот процесс перерос в демонизацию других, в создание внутреннего круга хороших людей, противостоящих плохому внешнему миру. В итоге психологическая гибель постигла тех, кто оказался слишком близко к центральной звезде. Они были либо выброшены, либо с большой болью вырвались на свободу. В конце концов, оставшаяся группа прибегла к незаконным методам: уничтожила все файлы, скрылась с оставшимися ценностями и, насколько мне известно, буквально исчезла. Возможно, в этом смысле вся система психосинтеза не имеет под собой оснований, поскольку ее основатель Роберто Ассаджиоли не сделал прозрачными свои источники. Среди инсайдеров известно, что многие его знания и практика пришли из эзотерических кругов, связанных с теософским движением Алисы Бейли. В своей автобиографии она даже упоминает его как своего ученика и соратника (Bailey, 1975), p.224ff). Некоторые из первых последователей Ассаджиоли сообщали, что он говорил, что у психосинтеза есть две стороны - открытая и скрытая, и что Ассаджиоли не хотел, чтобы публика знала, что истоки психосинтеза лежат в теософской, а возможно, и в других эзотерических традициях (Schuller, 1988). Неудивительно, что этот ореол секретности, особости и эзотеричности был привлекателен для субъектов с определенными нарциссическими потребностями и тем самым способствовал формированию и закреплению нарциссических структур личности (Aron Saltiel, личное сообщение). То же самое, вероятно, можно сказать и о многих других движениях, которые вращаются вокруг особого учения, особого опыта или и того, и другого. В этом кроется глубинная причина того, что каждая традиционная религия или духовная традиция, основанная на глубоком опыте, разработала обряды, ритуалы или практики, которые, по крайней мере, призваны очистить ее от опасности нарциссической инфляции. К этой теме мы перейдем ниже. Именно по этой причине религиозные, духовные или сектантские группы, основанные на нарциссическом сговоре между мастером и последователями, склонны вызывать страдания у тех, кто в конце концов вырывается на свободу, и этот факт теперь зафиксирован в категории DSM "Религиозно-духовная проблема" (Lukoff, Lu, & Turner, 1992).
Нарциссический потенциал группы
В то время как гуру или харизматический лидер могут поддаться опасности эксплуатации своего духовного опыта с целью инфляции, такая нарциссическая система также нуждается в "пастве", которая ее поддерживает, главным образом для того, чтобы компенсировать недостаток самоуважения и нарциссическую слабость грандиозностью лидера, в сиянии которого они сами могут греться. Лидеру нужен последователь, оратору - аудитория, диве - поклонники, только тогда они смогут в полной мере раскрыть свой гений. И наоборот, ученикам нужен свой гуру, народу - свой лидер, бессильным - освободитель, чтобы чувствовать себя сильными и достойными, ощущать принадлежность и чувствовать себя хорошо. Инфляция и комплекс Моисея связаны между собой в том смысле, что последователи харизматического лидера - это нуждающиеся нарциссы, которые компенсируют собственное чувство неполноценности властью, которую дает им лидер.
Эти проблемы нарциссизма актуальны для многих сфер жизни общества. Однако в трансперсональной психологии они становятся наиболее проблематичными. Это связано с тем, что в контексте духовных традиций духовный опыт идеально поддается инфляционной или дефляционной обработке. Кроме того, духовные традиции встроены в групповой контекст, где, с высокой степенью вероятности, будут культивироваться нарциссически ориентированные связи и отношения. В-третьих, поскольку центральной темой духовных традиций и путей является освобождение от Эго и его трансформация, они неизбежно активизируют нарциссический мотив. Вряд ли Эго не станет сопротивляться попытке отказаться от него и передать его создателю, Космосу, Вселенной, Нирване или любой другой сущности. Сопротивление непременно будет на карте пути.
Эти проблемы нарциссизма актуальны для многих сфер жизни общества. Однако в трансперсональной психологии они становятся наиболее проблематичными. Это связано с тем, что в контексте духовных традиций духовный опыт идеально поддается инфляционной или дефляционной обработке. Кроме того, духовные традиции встроены в групповой контекст, где, с высокой степенью вероятности, будут культивироваться нарциссически ориентированные связи и отношения. В-третьих, поскольку центральной темой духовных традиций и путей является освобождение от Эго и его трансформация, они неизбежно активизируют нарциссический мотив. Вряд ли Эго не станет сопротивляться попытке отказаться от него и передать его создателю, Космосу, Вселенной, Нирване или любой другой сущности. Сопротивление непременно будет на карте пути.
Нарциссизм как духовное сопротивление
Здоровый нарциссизм имеет адаптивную и полезную функцию. В западной психологии Ассаджиоли, основатель психосинтеза (Assagioli, 1965), первым указал на то, что помимо классически известных форм сопротивления существует также тонкая форма сопротивления трансперсональному опыту и духовным изменениям (Assagioli, 1937, 1991). Оно может принимать две формы: инфляционную и дефляционную. Инфляционная форма сопротивления - это приписывание себе и своей личности чрезмерной значимости. В этом случае человек отказывается отвергать определенные идеи, привычки или установки, считая их частью своей личности. Духовный, теоретический или философский догматизм по существу является формой духовного сопротивления опыту. Он позволяет исключить чужой опыт и чужие интерпретации и в то же время доказывает, что не нужно менять свою собственную систему и что нет необходимости в дальнейшем совершенствовании.
Это иллюстрирует одна хасидская история: К раввину обращаются его ученики в качестве третейского судьи в споре. Один из учеников объясняет свое мнение. Раввин признает это и говорит: "Ты прав". Тогда другой студент объясняет свою позицию. Раввин соглашается с ним и говорит: "Ты прав". Тогда третий студент указывает на то, что оба они не могут быть правы, так как имеют противоположные мнения. Раввин соглашается и говорит: "Ты тоже прав". Готовность последовательно признавать относительность моделей и систем - это форма защиты от ошибочного принятия карты за страну, а опыта - за его выражение. Это предполагает готовность абстрагироваться от собственного опыта. Один из способов сделать это - серьезно относиться к чужому опыту и его интерпретации, через личное общение и чтение, признавая его как возможный вариант. Другая возможность - практиковаться и знакомиться с другими способами на собственном опыте, даже если поначалу они могут показаться странными. Нейрофизиологически и психологически наше "Я" имеет тенденцию редуцировать новые и необычные факты до известных структур или иным образом отвергать их как нерелевантные (Roth, 1997). Это делается для того, чтобы защитить нашу когнитивную систему от перегрузки. Но именно эта тенденция приводит к фатальному окостенению Эго и принятию его за Абсолют. Преодолеть проблему можно только путем обращения к новым и неожиданным событиям. Таким образом, в инфляционном варианте сопротивления человек воспринимает себя и свой опыт как абсолютный и, соответственно, руководствуется собственной интерпретацией жизни. Это проявляется в форме догматизма. И в результате происходит стабилизация эго-структур.
Дефляционная версия сопротивления противоположна этому. Опасность комплекса Моисея заключается в несерьезном отношении к собственному опыту, в преуменьшении его значимости и тем самым в недооценке своей истинной природы. Типичным путем отступления является рационализация опыта как странного сна или подозрение, что всё происходящее, скорее всего, было большой ошибкой или иллюзией. Тогда возникает ложное смирение, которое нейтрализует этот опыт. Причины могут быть самыми разными, но, скорее всего, в основе лежат нарциссические мотивы. Например, причиной может быть страх перед последствиями или страх неудачи.
В то время как стабильная личность обладает достаточными механизмами, чтобы справиться со страхом, неудачами или разочарованиями, нарциссически ранимый человек быстрее почувствует угрозу, если что-то пойдет не так или не получится. Такой человек будет более легко отказываться от своих намерений из-за отсутствия нарциссического вознаграждения. Ложное смирение - наиболее изощренная опасность на духовном пути для людей с нарциссическими потребностями, позволяющая довольствоваться тем положением в жизни, которое обеспечивает необходимую нарциссическую поддержку, но при этом достаточно безопасно с точки зрения разочарований и нарциссических угроз.
О нарциссической опасности сопротивления, возникающей в условиях группового взаимодействия на духовном пути, уже упоминалось. Инфляционной формой является соблазн стать гуру. Кроме того, это форма духовного сопротивления, если организация гуру или духовного лидера не сопровождается внедрением институционализированных процессов или ритуалов самоуничижения, которые служат для разрушения образа всеведущего лидера. Центральный образ, предлагаемый христианской традицией, - омовение ног. Индивиды, склонные к комплексу Моисея, должны преодолеть свое сопротивление отказаться от убежища группы, дающей им силы, и от поддержки лидера, который их поддерживает. Идеологически роль овцы в стаде или группе легко принимается: это упражнение в смирении, важно служить гуру, а значит, отказаться от любых эгоистических побуждений. На самом же деле очень часто это просто страх перед собственной внутренней силой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Отказ от своего "маленького" "Я" и посвящение себя более великой реальности - общий знаменатель всех духовных традиций. Даже если эта великая реальность ворвалась в жизнь человека в глубоком и революционном опыте - это не конец пути, а только начало. Это хорошо иллюстрируют дзен-буддистские картинки с изображением пастухов волов, указывающих путь. На второй картинке искатель очень быстро находит вола, который символизирует истинное "Я", но проходит еще восемь картинок, прежде чем укрощение, оседлание и, фактически, уход от опыта или вола завершается. Малое Эго постоянно борется со значением этого опыта, что неизбежно приведет к тому, что он будет признан лишним. По сути, духовный путь - это большая и непрерывная нарциссическая травма. Ибо сама его природа состоит в том, чтобы оставить позади свои ограничения и заботы о себе и просто продолжать путь, прощаясь со своим нарциссизмом. Но этот процесс может начаться только тогда, когда на первом месте стоит позитивное и стабильное отношение к себе. Хрупкое "я" будет хвататься за исключительные переживания, которые, по-видимому, являются для нашей психики способом опробовать новые решения в момент кризиса (Day & Peters, 1999; Jackson, 1997). Если духовный опыт используется правильно, он может исцелить раненую личность, поскольку в нем переживание безусловной внутренней ценности может быть центральным и очень мощным. При умелом сочетании духовная работа и сопутствующие ей переживания могут поддержать психологическую работу и ускорить ее. Перейдем к рассмотрению практических последствий.
Это иллюстрирует одна хасидская история: К раввину обращаются его ученики в качестве третейского судьи в споре. Один из учеников объясняет свое мнение. Раввин признает это и говорит: "Ты прав". Тогда другой студент объясняет свою позицию. Раввин соглашается с ним и говорит: "Ты прав". Тогда третий студент указывает на то, что оба они не могут быть правы, так как имеют противоположные мнения. Раввин соглашается и говорит: "Ты тоже прав". Готовность последовательно признавать относительность моделей и систем - это форма защиты от ошибочного принятия карты за страну, а опыта - за его выражение. Это предполагает готовность абстрагироваться от собственного опыта. Один из способов сделать это - серьезно относиться к чужому опыту и его интерпретации, через личное общение и чтение, признавая его как возможный вариант. Другая возможность - практиковаться и знакомиться с другими способами на собственном опыте, даже если поначалу они могут показаться странными. Нейрофизиологически и психологически наше "Я" имеет тенденцию редуцировать новые и необычные факты до известных структур или иным образом отвергать их как нерелевантные (Roth, 1997). Это делается для того, чтобы защитить нашу когнитивную систему от перегрузки. Но именно эта тенденция приводит к фатальному окостенению Эго и принятию его за Абсолют. Преодолеть проблему можно только путем обращения к новым и неожиданным событиям. Таким образом, в инфляционном варианте сопротивления человек воспринимает себя и свой опыт как абсолютный и, соответственно, руководствуется собственной интерпретацией жизни. Это проявляется в форме догматизма. И в результате происходит стабилизация эго-структур.
Дефляционная версия сопротивления противоположна этому. Опасность комплекса Моисея заключается в несерьезном отношении к собственному опыту, в преуменьшении его значимости и тем самым в недооценке своей истинной природы. Типичным путем отступления является рационализация опыта как странного сна или подозрение, что всё происходящее, скорее всего, было большой ошибкой или иллюзией. Тогда возникает ложное смирение, которое нейтрализует этот опыт. Причины могут быть самыми разными, но, скорее всего, в основе лежат нарциссические мотивы. Например, причиной может быть страх перед последствиями или страх неудачи.
В то время как стабильная личность обладает достаточными механизмами, чтобы справиться со страхом, неудачами или разочарованиями, нарциссически ранимый человек быстрее почувствует угрозу, если что-то пойдет не так или не получится. Такой человек будет более легко отказываться от своих намерений из-за отсутствия нарциссического вознаграждения. Ложное смирение - наиболее изощренная опасность на духовном пути для людей с нарциссическими потребностями, позволяющая довольствоваться тем положением в жизни, которое обеспечивает необходимую нарциссическую поддержку, но при этом достаточно безопасно с точки зрения разочарований и нарциссических угроз.
О нарциссической опасности сопротивления, возникающей в условиях группового взаимодействия на духовном пути, уже упоминалось. Инфляционной формой является соблазн стать гуру. Кроме того, это форма духовного сопротивления, если организация гуру или духовного лидера не сопровождается внедрением институционализированных процессов или ритуалов самоуничижения, которые служат для разрушения образа всеведущего лидера. Центральный образ, предлагаемый христианской традицией, - омовение ног. Индивиды, склонные к комплексу Моисея, должны преодолеть свое сопротивление отказаться от убежища группы, дающей им силы, и от поддержки лидера, который их поддерживает. Идеологически роль овцы в стаде или группе легко принимается: это упражнение в смирении, важно служить гуру, а значит, отказаться от любых эгоистических побуждений. На самом же деле очень часто это просто страх перед собственной внутренней силой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Отказ от своего "маленького" "Я" и посвящение себя более великой реальности - общий знаменатель всех духовных традиций. Даже если эта великая реальность ворвалась в жизнь человека в глубоком и революционном опыте - это не конец пути, а только начало. Это хорошо иллюстрируют дзен-буддистские картинки с изображением пастухов волов, указывающих путь. На второй картинке искатель очень быстро находит вола, который символизирует истинное "Я", но проходит еще восемь картинок, прежде чем укрощение, оседлание и, фактически, уход от опыта или вола завершается. Малое Эго постоянно борется со значением этого опыта, что неизбежно приведет к тому, что он будет признан лишним. По сути, духовный путь - это большая и непрерывная нарциссическая травма. Ибо сама его природа состоит в том, чтобы оставить позади свои ограничения и заботы о себе и просто продолжать путь, прощаясь со своим нарциссизмом. Но этот процесс может начаться только тогда, когда на первом месте стоит позитивное и стабильное отношение к себе. Хрупкое "я" будет хвататься за исключительные переживания, которые, по-видимому, являются для нашей психики способом опробовать новые решения в момент кризиса (Day & Peters, 1999; Jackson, 1997). Если духовный опыт используется правильно, он может исцелить раненую личность, поскольку в нем переживание безусловной внутренней ценности может быть центральным и очень мощным. При умелом сочетании духовная работа и сопутствующие ей переживания могут поддержать психологическую работу и ускорить ее. Перейдем к рассмотрению практических последствий.
Практические вариации на тему нарциссизма и духовности
В силу описанных выше связей можно ожидать, что и преподаватели, и студенты будут испытывать нарциссические проблемы в контексте духовности. Таким образом, главная задача, стоящая перед преподавателями, - осознать свои нарциссические раны и потребности, чтобы быть менее подверженными нарциссическим искушениям. Духовный опыт сам по себе не защищает от нарциссических искажений. Напротив, именно неосознанные нарциссические раны являются идеальной предпосылкой для злоупотребления духовным опытом, причем в отношении преподавателей в основном в инфляционной форме. Студенты могут помочь предотвратить чрезмерное разрастание нарциссизма своих преподавателей. Признаками нарциссизма со стороны преподавателя являются отсутствие юмора, догматизм, отсутствие культуры дискуссий и полемики, финансовые, личные или сексуальные злоупотребления, а также изощренное и молчаливое устранение критиков. Студентам, наблюдающим подобные тенденции у своих преподавателей, стоит задуматься о том, готовы ли они еще мириться с такой системой или, может быть, у них хватит сил на то, чтобы изменить ее. Но при этом следует соблюдать осторожность. Нет ничего более опасного, чем раненый нарцисс. Нарциссический гнев - одна из самых стойких вещей на земле и, более того, одна из самых разрушительных. У того, кто не верит в свою способность высказывать критику осторожно и эмпатично, мало шансов что-либо изменить. Ключом к этому является сохранение внутренней близости и родства. Если нарциссически раненный человек чувствует, что его принимают как человека, есть шанс, что фактическая критика конкретных аспектов его поведения будет принята. С другой стороны, если человек чувствует, что ему не хватает чувства родства и сопереживания, то стоит дважды подумать, прежде чем высказывать критику. По этическим соображениям иногда необходимо публично противостоять оскорбительному поведению. Это особенно важно, когда человек был глубоко ранен. Это может повлечь за собой болезненную для обеих сторон конфронтацию и даже обращение в гражданский суд. Всегда легко найти нарциссические недостатки у других и труднее признать их у себя. Тем не менее, осознание своего нарциссического дефицита является частью духовной и психологической гигиены. Симптомами и сигналами наших собственных нарциссических проблем могут быть:
- чувство оскорбленности и в то же время зависти к другим
- выполнение работы без особого удовольствия и сокрытие чувства внутренней пустоты,
- склонность поддаваться импульсам - еде, питью или сексуальной активности - в основном в ситуациях, когда все складывается не так, как хотелось бы,
- дистанцирование от окружающих.
Триада "зависть - гнев - дистанцирование" характерна для нарциссических проблем. Если вы обнаруживаете у себя эти черты, то они могут послужить полезным инсайтом, поскольку в этом случае сложнее просто отыгрывать эти чувства с помощью депрессивного, агрессивного или импульсивного поведения. Конструктивные альтернативы могут быть найдены путем целенаправленного решения проблем. Если есть такая возможность, можно присоединиться к группе, которая поддерживает, а не оскорбляет, или найти другие стабильные и полезные отношения, дающие чувство принадлежности, или действовать таким образом, чтобы получить признание, которого не хватает. Это может быть благотворительное поведение: например, помощь в уборке, или просто предложение помощи, или занятие чем-то, в чем можно почувствовать свою силу и компетентность, будь то спорт или физические упражнения, творческая, художественная или интеллектуальная работа. Осознание собственных нарциссических слабостей также помогает реалистично оценить себя, понять, чего можно достичь в действительности, и осознать, какие из наших амбиций в большей степени обусловлены манией величия.
Если мы обнаруживаем в себе склонность к инфляции, мы можем сознательно совершать акты смирения. Для этого можно выполнять рутинную работу: например, самому сделать ксерокопии, а не отдать их в мастерскую, помыть посуду или вытереть пол. Это особенно необходимо и полезно, если человек считает такую работу ниже своего достоинства. Смирение может проявляться и в благодарном принятии всех тех мелочей, регулярно преподносимых жизнью, которыми мог быть задет наш нарциссизм, и на которые мы склонны реагировать гневом или яростью. В то же время люди, склонные к дефляционному способу удовлетворения нарциссических потребностей, могут действовать по принципу: лучше больше, чем меньше, и лучше выше, чем ниже. В этом случае важны небольшие ежедневные ритуалы признания и самоутверждения, например, вознаграждение за небольшой успех баловством, признание собственной красоты при утреннем взгляде на себя в зеркало или составление списка успехов дня вечером, поход с друзьями на вкусный ужин, в театр или кино, выходной и т.д. и т.п. Во всех этих случаях важно выполнять эти действия не автоматически, а осознавая контекст. Ведь в общении с самим собой действуют те же правила воспитания, которые наиболее перспективны для детей: забота и подкрепление, и в то же время установление границ для эгоистических требований. Задача состоит в том, чтобы найти тот тонкий баланс между поддержкой и фрустрацией, признанием и отвержением, который является золотым путем и для родителей в общении с детьми. Если человек осознает свои нарциссические слабости и работает с ними психологически, то шансы на более эффективное применение духовного опыта весьма велики. Без такой психологической работы духовная работа сама по себе, особенно для представителей коллективно нарциссически раненной культуры Запада, представляется недостаточной и даже опасной.
Тема духовного пути - отказ от себя и передача себя - глубоко созвучна нашему нарциссизму. Здоровому "Я" достаточно сложно отказаться от себя на духовном пути. Показательно, что в духовных метафорах смерть Эго предстает в разных образах. Поэтому нарциссизм, будь он в своей слабой или сильной версии, всегда является проблемой духовного развития. Если не рефлексировать по этому поводу, то тень становится все темнее, по мере того как свет становится все ярче.
- чувство оскорбленности и в то же время зависти к другим
- выполнение работы без особого удовольствия и сокрытие чувства внутренней пустоты,
- склонность поддаваться импульсам - еде, питью или сексуальной активности - в основном в ситуациях, когда все складывается не так, как хотелось бы,
- дистанцирование от окружающих.
Триада "зависть - гнев - дистанцирование" характерна для нарциссических проблем. Если вы обнаруживаете у себя эти черты, то они могут послужить полезным инсайтом, поскольку в этом случае сложнее просто отыгрывать эти чувства с помощью депрессивного, агрессивного или импульсивного поведения. Конструктивные альтернативы могут быть найдены путем целенаправленного решения проблем. Если есть такая возможность, можно присоединиться к группе, которая поддерживает, а не оскорбляет, или найти другие стабильные и полезные отношения, дающие чувство принадлежности, или действовать таким образом, чтобы получить признание, которого не хватает. Это может быть благотворительное поведение: например, помощь в уборке, или просто предложение помощи, или занятие чем-то, в чем можно почувствовать свою силу и компетентность, будь то спорт или физические упражнения, творческая, художественная или интеллектуальная работа. Осознание собственных нарциссических слабостей также помогает реалистично оценить себя, понять, чего можно достичь в действительности, и осознать, какие из наших амбиций в большей степени обусловлены манией величия.
Если мы обнаруживаем в себе склонность к инфляции, мы можем сознательно совершать акты смирения. Для этого можно выполнять рутинную работу: например, самому сделать ксерокопии, а не отдать их в мастерскую, помыть посуду или вытереть пол. Это особенно необходимо и полезно, если человек считает такую работу ниже своего достоинства. Смирение может проявляться и в благодарном принятии всех тех мелочей, регулярно преподносимых жизнью, которыми мог быть задет наш нарциссизм, и на которые мы склонны реагировать гневом или яростью. В то же время люди, склонные к дефляционному способу удовлетворения нарциссических потребностей, могут действовать по принципу: лучше больше, чем меньше, и лучше выше, чем ниже. В этом случае важны небольшие ежедневные ритуалы признания и самоутверждения, например, вознаграждение за небольшой успех баловством, признание собственной красоты при утреннем взгляде на себя в зеркало или составление списка успехов дня вечером, поход с друзьями на вкусный ужин, в театр или кино, выходной и т.д. и т.п. Во всех этих случаях важно выполнять эти действия не автоматически, а осознавая контекст. Ведь в общении с самим собой действуют те же правила воспитания, которые наиболее перспективны для детей: забота и подкрепление, и в то же время установление границ для эгоистических требований. Задача состоит в том, чтобы найти тот тонкий баланс между поддержкой и фрустрацией, признанием и отвержением, который является золотым путем и для родителей в общении с детьми. Если человек осознает свои нарциссические слабости и работает с ними психологически, то шансы на более эффективное применение духовного опыта весьма велики. Без такой психологической работы духовная работа сама по себе, особенно для представителей коллективно нарциссически раненной культуры Запада, представляется недостаточной и даже опасной.
Тема духовного пути - отказ от себя и передача себя - глубоко созвучна нашему нарциссизму. Здоровому "Я" достаточно сложно отказаться от себя на духовном пути. Показательно, что в духовных метафорах смерть Эго предстает в разных образах. Поэтому нарциссизм, будь он в своей слабой или сильной версии, всегда является проблемой духовного развития. Если не рефлексировать по этому поводу, то тень становится все темнее, по мере того как свет становится все ярче.
Образ того, как справляться с нарциссическими тенденциями
Подходящим образом того, как справиться с собственными нарциссическими наклонностями на духовном пути, является история, рассказанная в Новом Завете об искушении Иисуса. Эту историю о начале общественной миссии Иисуса рассказывают все три синоптических евангелиста. После 40-дневного поста Иисус переживает три искушения, которые в целом можно интерпретировать как вариации на тему нарциссизма. Конечно, их можно интерпретировать и в контексте различных базовых психологических потребностей, в зависимости от того, какой психологической системе отдается предпочтение. Но также возможно и полезно интерпретировать их в контексте различных форм преодоления нарциссических импульсов. Итак, Иисус испытывает искушение самому удовлетворить свои потребности, найти себе пищу и превратить камни в хлеб. Это образ желания самому сделать что-то, чтобы удовлетворить свои потребности. Тем из нас, кто имеет длительный опыт медитации при отсутствии более глубокого питательного опыта, знакомы времена внутренней жажды и иссушения. Святой Иоанн Креста называл это «темной ночью души», и этот опыт хорошо известен в христианской аскетико-мистической литературе (St.John of the Cross/Johannes vom Kreuz, 1940; Scharfetter, 1991). Иисус отвечает на это искушение, указывая на Писание. Мы можем интерпретировать это как верное следование духовной традиции даже в периоды иссушения. Второе искушение - это искушение нарциссического величия: оказаться на вершине храма и продемонстрировать всему миру собственное совершенство, спрыгнув вниз и оставшись невредимым. Интересно, что сны и фантазии о полетах и возможности летать часто являются нарциссическими образами. Черчилль, например, в своих мемуарах пишет, что в детстве он думал, что умеет летать, и прыгнул с моста, едва оставшись в живых. Иисус отвечает на это искушение цитатой из Писания "Не искушай Бога твоего", тем самым указывая на смирение. Последнее искушение - власть: "Все эти царства я дам тебе, если ты падешь передо мной", - говорит дьявол. Это искушение проявить свою власть в качестве лидера, учителя или гуру. Преодолеть это искушение можно, только ясно осознав его природу. Иисус преодолевает эти три вида нарциссического искушения - нуждающегося, грандиозного и властного. И только после этого, как сказано в Новом Завете, "ангелы и дикие звери пришли на служение Ему". Только когда эти искушения преодолены, может проявиться глубинная природа человека. А она включает в себя все - и высшую, и низшую природу, и ангелов, и чудовищ. Однако этого нельзя достичь через активные действия, ибо это естественное следствие духовного пути, пройденного с уверенностью и верой, на котором прежде всего должны быть преодолены нарциссические соблазны. В жизни Иисуса это было только начало. Настоящий отказ от себя и передача себя в руки другим был иным, очень болезненным, процессом.
Благодарность:
Идеи, изложенные в этой статье, были опубликованы в более раннем варианте в качестве статьи по приглашению в немецкоязычном журнале "Transpersonale Psychologie und Psychotherapie". Я благодарен Эдит Цундель за то, что она предложила мне сесть и изложить свои идеи на бумаге. Я благодарен Арону Салтиелю за указание на нарциссический потенциал в рамках психосинтеза и за литературу, относящуюся к этой теме. Тем, что я узнал о нарциссизме, я обязан своему научному руководителю, покойному доктору Тео Гланцу из Оберридена, Швейцария, бывшему члену Швейцарского психоаналитического общества, в память о котором я хочу представить эту работу.
Список литературы:
Adorno, T. W. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Harper.
Aitken, R. (1988). Zen als Lebenspraxis. München: Diederichs.
Assagioli, R. (1937). Spiritual development and its attendant maladies. Hibbert Journal, 36, 69-88.
Assagioli, R. (1965). Psychosynthesis : A Manual of Principles and Techniques. New York: Hobbs, Dorman.
Assagioli, R. (1991). Transpersonal Development. The Dimension beyond Psychosynthesis. London: Harper Collins.
Bailey, A. A. (1975). Die unvollendete Autobiographie [The Unfinished Autobiography]. Genf: Lucis.
Campbell, J. (1997). Göttinnen, Dakinis und ganz normale Frauen. Weibliche Identität im Tibetischen Tantra [Godesses,Dakinis and Normal Women. Female Idetity in Tibetan Tantra]. Zürich: Theseus.
Daniels, M. (Ed.). (2005). Shadow, Self, Spirit: Essays in Transpersonal Psychology.
Charlottesville, VA: Imprint Academic.
Day, S., & Peters, E. (1999). The incidence of schizotypy in new religious movements. Personality and Individual Differences, 27, 55-67.
Enomiya-Lassalle, H. M. (1987). Zen und christliche Spiritualität [Zen and Christian Spirituality]. München: Kösel.
Ferrer, J. N. (2000). The perennial philosophy revisited. Journal of Transpersonal Psychology, 32, 7-30.
Ferrer, J. N. (2002). Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality. Albany: SUNY Press.
Hartmann, H. (1972). Ich-Psychologie. Studien zur Psychoanalytischen Theorie [Ego Psychology. Studies in Psychoanalytic Theory]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Heelas, P. (1996). The New Age Movement. Oxford: Blackwell's.
Jackson, M. (1997). Benign schizotypy? The case of spiritual experience. In G. Claridge (Ed.), Schizotypy. Implications for Illness and Health (pp. 227-250). Oxford: Oxford University Press.
James, W. (1985). The Works of William James. The Varieties of Religious Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jung, C. G. (1984). Grundwerk in neun Bänden. Bd. 2 Archetyp und Unbewußtes. [Basic Works in Nine Volumes. Vol 2: Archetype and Unconscious] Olten, Freiburg: Walter.
Kernberg, O. F. (1978). Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus. [Borderline Pathology and Pathological Narcisssim] Frankfurt: Suhrkamp.
Kernberg, O. F. (1992a). Aggression in Personality Disorders and Perversions. New Haven: Yale UP.
Kernberg, O. F. (1992b). Schwere Persönlichkeitsstörungen. Theorie, Diagnose, Behandlungsstrategien [Severe Personality Disorders. Theory, Diagnosis, Treatment Strategies]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Kernberg, O. F. (1993). Psychodynamische Therapie bei Borderline-Patienten [Psychodynamic Therapy in Borderline Patients]. Bern: Huber.
Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1978). The Search for the Self. Selected Writings (ed. by P.H. Ornstein). New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1987). Wie heilt die Psychoanalyse? [How Can Psychoanalysis Heal?] Frankfurt: Suhrkamp.
Lasch, C. (1991). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: Norton.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press.
Lukoff, D., Lu, F., & Turner, R. (1992). Toward a more culturally sensitive DSM-IV. Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 673-682.
Masterson, J. F. (1980). Psychotherapie bei Borderline-Patienten [Psychotherapy in Bordlerline Patients]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Mertens, W. (Ed.). (1993). Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse [Key Notions of Psychoanalysis]. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse.
Miller, A. (1979). Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst [The Tragedy of the Gifted Child and the Search for the True Self].
Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1981a). Am Anfang war Erziehung [In the Beginning there was Education]. Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1981b). Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema [You Must not Know. Variations over the Theme of Paradise]. Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1988). Der gemiedene Schlüssel [The Avoided Key]. Frankfurt: Suhrkamp.
Roth, G. (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen [The Brain and its Reality. Cognitive Neurobiology and the Philosophical Consequences]. Frankfurt: Suhrkamp.
Scharfetter, C. (1991). Der spirituelle Weg und seine Gefahren [The Spiritual Path and its Dangers]. Stuttgart: Enke.
Schuller, M. (1988). Psychosynthesis in North America. The Story of the Movement, the People, and the Issue. Union Graduate School.
St. John of the Cross/ Johannes vom Kreuz (1940). Sämtliche Werke. Band 2: Die dunkle Nacht Hrsg. & übers. v. P.Aloysius ab Immac. Conceptione [Collected Works, Vol 2: The Dark Night]. München: Kösel.
Walach, H. (2002). A four dimensional, integrative, categorial model of psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly, 15, 35-46.
Wink, P. (1991). Two Faces of Narcissism. Journal of Personality & Social Psychology, 61, 590-597.
Wink, P., Ciciolla, L., Dillon, M., & Tracy, A. (2007). Religiousness, spiritual seeking, and personality: Findings from a longitudinal study. Journal of Personality 75, 1051-1070.
Wink, P., Dillon, M., & Fay, K. (2005). Spiritual Seeking, Narcissism, and Psychotherapy: How Are They Related? Journal for the Scientific Study of Religion, 44(2), 143-158.
Wink, P., & Donahue, K. (1997). The relationship bewteen two types of narcissism and boredom. Journal of Research in Personality, 31, 135-140.
Adorno, T. W. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Harper.
Aitken, R. (1988). Zen als Lebenspraxis. München: Diederichs.
Assagioli, R. (1937). Spiritual development and its attendant maladies. Hibbert Journal, 36, 69-88.
Assagioli, R. (1965). Psychosynthesis : A Manual of Principles and Techniques. New York: Hobbs, Dorman.
Assagioli, R. (1991). Transpersonal Development. The Dimension beyond Psychosynthesis. London: Harper Collins.
Bailey, A. A. (1975). Die unvollendete Autobiographie [The Unfinished Autobiography]. Genf: Lucis.
Campbell, J. (1997). Göttinnen, Dakinis und ganz normale Frauen. Weibliche Identität im Tibetischen Tantra [Godesses,Dakinis and Normal Women. Female Idetity in Tibetan Tantra]. Zürich: Theseus.
Daniels, M. (Ed.). (2005). Shadow, Self, Spirit: Essays in Transpersonal Psychology.
Charlottesville, VA: Imprint Academic.
Day, S., & Peters, E. (1999). The incidence of schizotypy in new religious movements. Personality and Individual Differences, 27, 55-67.
Enomiya-Lassalle, H. M. (1987). Zen und christliche Spiritualität [Zen and Christian Spirituality]. München: Kösel.
Ferrer, J. N. (2000). The perennial philosophy revisited. Journal of Transpersonal Psychology, 32, 7-30.
Ferrer, J. N. (2002). Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality. Albany: SUNY Press.
Hartmann, H. (1972). Ich-Psychologie. Studien zur Psychoanalytischen Theorie [Ego Psychology. Studies in Psychoanalytic Theory]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Heelas, P. (1996). The New Age Movement. Oxford: Blackwell's.
Jackson, M. (1997). Benign schizotypy? The case of spiritual experience. In G. Claridge (Ed.), Schizotypy. Implications for Illness and Health (pp. 227-250). Oxford: Oxford University Press.
James, W. (1985). The Works of William James. The Varieties of Religious Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Jung, C. G. (1984). Grundwerk in neun Bänden. Bd. 2 Archetyp und Unbewußtes. [Basic Works in Nine Volumes. Vol 2: Archetype and Unconscious] Olten, Freiburg: Walter.
Kernberg, O. F. (1978). Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus. [Borderline Pathology and Pathological Narcisssim] Frankfurt: Suhrkamp.
Kernberg, O. F. (1992a). Aggression in Personality Disorders and Perversions. New Haven: Yale UP.
Kernberg, O. F. (1992b). Schwere Persönlichkeitsstörungen. Theorie, Diagnose, Behandlungsstrategien [Severe Personality Disorders. Theory, Diagnosis, Treatment Strategies]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Kernberg, O. F. (1993). Psychodynamische Therapie bei Borderline-Patienten [Psychodynamic Therapy in Borderline Patients]. Bern: Huber.
Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1978). The Search for the Self. Selected Writings (ed. by P.H. Ornstein). New York: International Universities Press.
Kohut, H. (1987). Wie heilt die Psychoanalyse? [How Can Psychoanalysis Heal?] Frankfurt: Suhrkamp.
Lasch, C. (1991). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: Norton.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press.
Lukoff, D., Lu, F., & Turner, R. (1992). Toward a more culturally sensitive DSM-IV. Psychoreligious and psychospiritual problems. Journal of Nervous and Mental Disease, 180, 673-682.
Masterson, J. F. (1980). Psychotherapie bei Borderline-Patienten [Psychotherapy in Bordlerline Patients]. Stuttgart: Klett-Cotta.
Mertens, W. (Ed.). (1993). Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse [Key Notions of Psychoanalysis]. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse.
Miller, A. (1979). Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst [The Tragedy of the Gifted Child and the Search for the True Self].
Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1981a). Am Anfang war Erziehung [In the Beginning there was Education]. Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1981b). Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema [You Must not Know. Variations over the Theme of Paradise]. Frankfurt: Suhrkamp.
Miller, A. (1988). Der gemiedene Schlüssel [The Avoided Key]. Frankfurt: Suhrkamp.
Roth, G. (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen [The Brain and its Reality. Cognitive Neurobiology and the Philosophical Consequences]. Frankfurt: Suhrkamp.
Scharfetter, C. (1991). Der spirituelle Weg und seine Gefahren [The Spiritual Path and its Dangers]. Stuttgart: Enke.
Schuller, M. (1988). Psychosynthesis in North America. The Story of the Movement, the People, and the Issue. Union Graduate School.
St. John of the Cross/ Johannes vom Kreuz (1940). Sämtliche Werke. Band 2: Die dunkle Nacht Hrsg. & übers. v. P.Aloysius ab Immac. Conceptione [Collected Works, Vol 2: The Dark Night]. München: Kösel.
Walach, H. (2002). A four dimensional, integrative, categorial model of psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly, 15, 35-46.
Wink, P. (1991). Two Faces of Narcissism. Journal of Personality & Social Psychology, 61, 590-597.
Wink, P., Ciciolla, L., Dillon, M., & Tracy, A. (2007). Religiousness, spiritual seeking, and personality: Findings from a longitudinal study. Journal of Personality 75, 1051-1070.
Wink, P., Dillon, M., & Fay, K. (2005). Spiritual Seeking, Narcissism, and Psychotherapy: How Are They Related? Journal for the Scientific Study of Religion, 44(2), 143-158.
Wink, P., & Donahue, K. (1997). The relationship bewteen two types of narcissism and boredom. Journal of Research in Personality, 31, 135-140.
